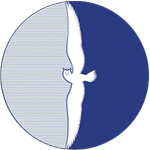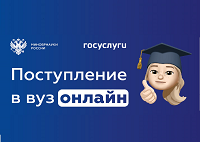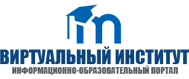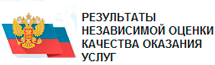Мы проговорили с Сардааной Ивановой почти три часа, и за это время можно было не только подобрать определение ее творчеству, но и найти ту исходную точку импульса, из которой появляются ее художественные образы, ставшие знаковыми во всех смыслах слова. Но мы ходили вокруг да около, а я вспоминала ее персональную выставку «Слои» и свои ощущения, которые можно было выразить примерно так – нахожусь ли я на выставке западного художника, который пишет на якутские темы, или это выставка якутского художника, творящего в западной манере и стилистике?
Якутский нож на этой выставке выглядел больше, чем колюще-режущее орудие, которым можно убить животное, разделать тушу, приготовить ужин. Я смотрела на его холодное лезвие и понимала, что этот компьютерный продукт — символ, раскрывающий новые смыслы в нашей жизни и избавляющий нас от стереотипов мышления. Как, впрочем, и все художественные образы Сардааны, в которых традиция продолжается не автоматически «в ноль», как любит говорить художница, а погружаясь в поток современной жизни, неся в себе дух новых технологий. Поэтому наш разговор о ее творчестве, о западном искусстве с его скандалами и социально-политическим подтекстом, о якутском искусстве с его фатальной обособленностью – все это было похоже на слои, которые мы снимали один за другим, постепенно приближаясь к сути. Но суть, как всегда, ускользает, не поддается фиксации и материализации. Потому что она кроется в ситуации, где есть доля объективного и субъективного, и свое личное участие в этом художнику трудно оценить. Тем более, если ты был не один, а с поколением единомышленников и вы одновременно создавали эту ситуацию, повлиявшую на сегодняшний день.
Я не случайно делаю акцент на поколении, которое считаю особенным. Хотя Сардаана реагирует на мои слова о роли ее поколения в художественном процессе с присущей для якутских художников скромностью. Этот слой – самый важный и он не отрефлексирован до конца, зато имеет очень притягательную ауру. Ауру прошедшей молодости. Тем более не всякая молодость выпадает на слом исторических эпох, как это случилось с поколением Сардааны.
— Нам очень повезло, что мы родились и живем в переломный момент, хотя китайцы говорят обратное. На наше счастье все это рухнуло, и нам не надо было писать на производственные темы, воспевать колхозников, рабочих. Когда идут глобальные сдвиги, для художников это самое интересное время. Малевич поднял авангардное искусство, когда рушилась Российская империя. Интересно было то, что мы приехали почти одновременно – московские, питерские, владивостокские, красноярские выпускники, — вспоминает Сардаана.
Звуки Табыка. 2014.
Сегодня листая альбом 22-летней давности «Саха-Арт», я вижу, насколько сильно в искусстве понятие вспышки и озарения, которое случается один раз в несколько десятилетий и за которым следуют долгие годы ровного, стабильного существования. Альбом этот вышел в 1993 году и собрал работы художников творческого объединения «Флогистон», куда входила Сардаана. Эта группа создала художественное пространство, которое раскрывает суть всей этой ситуации. Ее формировали художники, которые в основной массе не родились в аласах и тундре, не имели дело с лошадьми и оленями, для них дойка коровы и забой скота – это нечто экзотическое и умозрительное. Но эти «асфальтовые» якуты начали искать эстетический образ новой Республики Саха. Казалось, что одновременно с СССР и ЯАССР становятся анахронизмом пейзажи с Ленскими столбами, натюрморты с карасями и портреты с видными деятелями.
— В училище и в суриковском институте я училась на советской школе реализма. Это была мощнейшая школа академизма, но это было не мое. Я все это могла делать, но я не понимала, зачем опять рисовать то, что вижу? Столбы, карасей, портреты? Какой смысл? – вопрошает художница, ставя меня в тупик, потому что смысл такого искусства знают только сами авторы.
Зелень лета
Если ты не искусствовед, то тебе лучше не погружаться в эти смыслы, а держаться собственных ощущений и воспоминаний, которых было достаточно начиная с девяностых. Первое ощущение — это не просто открытие, а откровение, за которым следовали какие-то непонятные ожидания. Когда вспоминаешь сегодня первые выставки «Флогистона» и молодых художников, то это выглядит одним большим полотном-коллажем, созданным коллективным якутским бессознательным. В этом полотне-коллаже среди бесчисленного количества символических птиц, рыб, оленей, коней, солярных знаков, петроглифов, чоронов, первопредков Элляя и Омогоя, якутских орнаментов и скифских зверей якутское бессознательное искало себя, свою историческую память. Весь этот мифологический мир был похож на завораживающее зеркало, в которое вместе с художниками вглядывались остальные, ища в нем знакомые отражения, истолковывая их, фантазируя, питая свой дух.
Можно было только позавидовать художникам, которые легко и играючи, кидали в массы свои послания, словно бы они действительно получали их из первых рук. В их рассуждениях нередко слышались фразы о каких-то древних кодах, зашифрованной информации. Что ж, это привилегия художников создавать мифы, таинственную ауру, без которой искусство становится пресным, а иногда просто перестает существовать. И тут между строк всплывает фигура Ван Гога, главного мифотворца, вдохновителя всех художников, о котором упомянула Сардаана, но немножко в другом контексте. Теперь я понимаю, почему именно он не дает покоя всем своим собратьям по цеху. Где-то подсознательно каждый художник понимает или должен понимать, что силу его творениям придает его частная жизнь и судьба. Народ любит мифы и легенды, и, если бы Ван Гон не отрезал себе ухо, не покончил с собой, кто знает, как воспринимались бы его картины.
Индивидуальная судьба. Судьба художника. Эту тему очень сложно раскручивать и раскрывать в якутском изобразительном искусстве. Поэтому в этом полотне-коллаже вроде и видишь каждого отдельного художника, но трудно узреть его личное послание. Художник здесь в первую очередь заявляет о своей этнической сущности, а потом уже индивидуальной. Он не отделяет себя от остальных, а наоборот старается быть с ними в одном потоке, стремясь донести вместе с ними одну коллективную мысль. Возможно, есть момент преувеличения. Но несмотря на то, что немало якутских художников творят в своем русле и стоят особняком, все же это большое мифологическое полотно-коллаж являет собой новый эстетический образ Республики Саха. В нем каждая символическая птица, олень, конь, рыба, шаманское дерево, тотемный знак пытаются преодолеть бессловесность далекого прошлого. Вспоминая свои интервью с Галиной Окоемовой, Натальей Николаевой, Надеждой Федуловой, Анной Петровой, Ольгой Рахлеевой, Ириной Мекумяновой, Ольгой Скориковой, а теперь и Сардааной Ивановой, я понимаю, из какого небытия родились эти мифы, из какой тьмы неизвестности они вытаскивали на свет божий обрывки легенд, фрагменты истории, отпечатки петроглифов, сохраняющих ценность даже на типографской бумаге. Отсутствие материальных подлинников и даже исторической достоверности усиливает творческий дух, придавая ему философско-экзистенциальный поиск себя в пространстве разорванного времени. Эти белые пятна, лакуны истории заполнялись личным видением и присутствием.
Поэтому, вспоминая «Слои», я понимаю, что эти абстрактные композиции не повествуют о событиях и даже не показывают любовь к родному краю, а пытаются найти ту сокровенную точку соприкосновения городского якута с мифологией предков, народной традицией. Этот момент материализуется в эстетских композициях, на первый взгляд отстраненных от якутской традиции. Как говорит Сардаана, очищенные от бытовой шелухи предметы в этих композициях раскрывают свою истинную суть. Петроглифы с Синской писаницы, обыгрывающие тему реки и пути, берестяные животные, ценность которых в фактуре, солярные знаки, «вырванные» из серебряных украшений, кентавр, похожий на шута, и нож, входящий сквозь линию конского волоса…
В ее творчестве древние символы и предметы старины, соединяясь с языком современной абстракции и компьютерных технологий, преодолевают фольклорность и этнографичность. Сардаана заявляет о своей индивидуальности и праве на свободу в интерпретации мифологии и этнографии. Мы видим художника, который идет к своим корням, испытывая влияние тотального европоцентризма. В этой фразе нет драматизма, в ней больше оптимизма, потому что плодотворность этого влияния очевидна. Порой кажется, чем контрастнее влияющая культура и культура, подверженная влиянию, тем интереснее результат. Легко размыть и растворить в себе похожее, но якутская культура и западная состоят из разных атомов, и им никогда не суждено стать чем-то однородным. Об этом работы Сардааны, и при первом же взгляде они поражают контрастностью, яркостью, эффектностью. Хотя они скупы на краски, малопредметны и минималистичны. В них почти все предметы лишены своей собственной сути и функции, и часто напоминают об арифметических действиях, когда начинаешь считать летящих уток и умножать их на коней. Они заставляют думать о том, в каком количестве надо было размножить фотопортрет комара, чтобы получился этот ужасный рой. В этот момент ты поглощена разгадыванием не мифов и посланий, а технологической стороной творения.
Что здесь первично, а что вторично? Этот вопрос возник уже после разговора с Сардааной, как следствие ее размышлений о компьютерном дизайне и цифровых технологиях. «Мозг человека похож на системник, что туда закинешь, то он и выдаст». Я понимаю, что она находится не только во власти древних знаков и мифов, но и во власти новых технологий. Эта привязанность определяет ее сегодняшнее творчество, а у меня вызывает вопрос – какие чувства испытывает художник, который просиживает целыми днями за монитором? Я могу понять чувства художника, который берет мольберт и на рассвете осеннего дня вдохновенно идет в пылающий красками лес. Но мне сложно понять чувства художника, который сидит за компьютером и вдохновляется виртуальными образами, оцифрованной реальностью, размноженной и растиражированной, из которой он создает нечто уникальное, чья ценность нередко зависит от сложности технологий.
Сардаана принадлежит к новому типу художника, в лексике которого чаще звучат слова «корел», фотошоп», «векторный рисунок», нежели что-нибудь лирическое и возвышенное. Надо понять этого художника, чтобы разгадать его произведения. Но надежда понять растворяется в длинном разговоре, и тебя увлекают воспоминания о детстве и рассказы о работе графического дизайнера, где обязательства перед заказчиком нередко довлеют над творческим Я, и надо найти баланс, чтобы не нарушить композицию в логотипе и удовлетворить заказчика. Наверное, это очень нервный момент, потому что композиция – это твой внутренний ритм, который сложно подавить и заглушить. И несмотря на законы о грамотном знаке и требования заказчика, художник будет подчиняться своим ритмам.
Поэтому не очень хочется приводить здесь все рассказы о детстве и дизайнерском ремесле. Хотя все это интересно, но нарушает ритм моего повествования и выводит на поверхность жизни к каким-то общим местам. Гораздо интереснее находиться где-то параллельно в надежде, что это поможет проникнуть в суть ее творчества. Родился, учился, закончил, получил заказ, признание и успех. Все это у Сардааны на своих местах, как и у большинства якутских художников, которые стараются жить и творить без эпатажа и претензий на богемность, а от слов «провокация» и «скандал» их передергивает, как от чего-то непотребного. Я понимаю, что наши художники – это труженики, а иногда и ремесленники, даже если они настоящие мастера.
— У меня никогда не было иллюзий, что художник — это богема и красивая жизнь. Я видела, как работает мой отец, а он работал на нескольких работах. Часто с мамой они ночами сидели над заказами, и все это вручную, кисточкой, тушью. Печатная графика, афиши, книжки…Мама руководила кружком изобразительного искусства во Дворце пионеров. Я уже тогда видела, что художник — это прежде всего тяжелый физический труд. Адский труд, — вспоминает Сардаана и подчеркивает, что такое погружение в профессию, без прямого наставления, повлияло на их выбор с сестрой. – Мы разделили с Саргыланой папины деятельности. Саргылана стала театральным художником, а я графическим дизайнером (Саргылана Иванова – главный художник ГТОиБ РС(Я)). В профессии старшая сестра оказала на меня очень большое влияние.
Слушая ее воспоминания об отце, который был известным театральным художником и одним из первых графиков-дизайнеров, я ловлю себя на том, что очень мало знаю о творчестве Владимира Иванова. Пытаюсь вспомнить свои детские походы в старый якутский драмтеатр, где все виденное сливается в одно целое – что-то из жизни дореволюционных якутов с ярко выраженным бытовым колоритом. Это кажется настолько далеким, как и значки, которые продавались в киосках, и покупались по чистой случайности. Должно быть где-то на даче в большом альбоме с поролоновыми страницами хранятся значки о Якутии. Теперь я знаю, что автором многих якутских значков был Владимир Иванов. Хочется все это поднять и рассмотреть осмысленно, но не ради того, чтоб найти сходство с почерком дочери. А для того, чтобы понять, как художник в условиях тотального дефицита информации, культурной изоляции и коммунистической пропаганды мог выражать себя и свое отношение к родине в этих заказных работах.
Здесь можно обозначить еще один слой, важный для понимания художницы. Если кто-нибудь и когда-нибудь будет исследовать этот культурный слой, то даже с высоты своего времени он не постигнет всех контрастов этого места и времени. Но сначала о месте, родившись в котором, надо научиться жить с тем, что сходится в этой точке под названием Якутск. Якутск – город художников, и в полотнах своих летописцев он выглядит то «тюрьмой без решеток», то эпической долиной Туймаада – сердцем Срединного мира, то сонным мещанским городком – окраиной Российской империи, то просто точкой на карте — безликой советской территорией, а чаще всего он прячется в снежном пейзаже. Этот Якутск в снегах и тумане – есть некий компромисс, осознанная или неосознанная попытка уйти от социально-политической рефлексии.
Но в этих творениях важен не сам Якутск, а взаимоотношения художника и места. В работах Сардааны Якутск не присутствует, как и у многих флогистоновцев. Это может показаться странным. Ведь в большинстве своем они — дети Якутска, выросшие в этом пространстве, в котором всем своим существом чувствуешь край земли. Особенно когда тебе немногим больше двадцати и когда рушится железный занавес, не отменяющий окраинной сути, а лишь усиливающий ее. В девяностых это внутреннее состояние у каждого было своим, и оно было сильнее внешней реальности. Это была переживаемая реальность, которая лучше всего выражалась в абстракции и символах. Тогда и пришел художник, который вынес свой внутренний мир из мастерской и заявил, что это может быть интереснее академического полотна.
Все это не ново для мира, но ново для нашей культуры. И когда смотришь на серию работ «Белые ночи» со старыми фотографиями, то кажется, что люди на них уже знают всю предначертанность будущего: что традиционную культуру рано или поздно будут имитировать, что сакральность смогут симулировать. Работы Сардааны об этом. Не случайно она отмечает грустные лица людей на постановочном Ысыахе, который осенью XIX века имитировали для исследователя и фотографа Иохельсона. Эта серия отсылает меня не в прошлое, а в будущее, провоцируя сложные вопросы – каким будет якутский художник через двадцать-тридцать лет? Будет ли он разрабатывать национальную тему или его будет волновать другое? И что такое якутский художник? Сардаана говорит о безграничности искусства и о том, что в искусстве главное быть самим собой.
Действительно, это так. Но даже если из жизни якутского художника навсегда исчезнут кони, олени, коровы и вся натуральная жизнь, а сам он утратит родной язык, у него все равно останется право размышлять и переживать по этому поводу. Как это будет происходить, неизвестно. Ведь никто не мог представить лет тридцать назад этих компьютерных картин. Они выбиваются из общего полотна-коллажа, в них уже подводится определенная черта и отчетливо читается мысль о том, что многие вещи существуют в нашей жизни лишь символически, исчерпав свою подлинную суть. Сардаана говорит об этом талантливо и очень тонко.
http://sakhalife.ru/etnicheskoe-i-individualnoe-sardaanyi-ivanovoy/